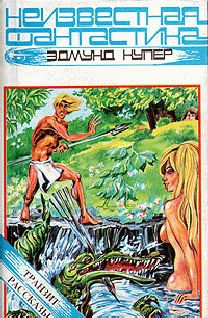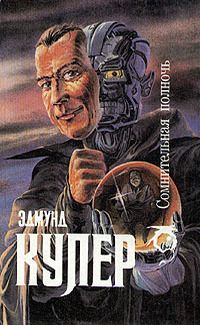Эдмунд Купер - Сомнительная полночь [сборник]
— Я мог бы убить тебя прямо здесь и сейчас. И тем самым решить все проблемы для нас обоих.
Леандер с любопытством посмотрел на него:
— Почему же ты этого не делаешь?
— По трем идиотским причинам.
— Первая?
— Я дурак.
— Вторая?
— Ты дурак.
— Третья?
— Мужиков и так не хватает. — Дайон встал и потянулся за своим реактивным ранцем. — И, кроме того, мы не должны делать жизнь доминант слишком легкой — или слишком тяжелой. Спасибо за приятное времяпрепровождение. Оно было менее возвышенным, чем первоначально предполагалось, но, несомненно, его последствия вызовут некоторые потрясения… Не звони мне. Я сам тебе позвоню. Если я когда-нибудь буду настолько пьян или буду так скучать, что не придумаю ничего лучшего.
Дайон рванулся со склона холма с таким оглушительным грохотом двигателей, что барабанные перепонки Леандера чуть не лопнули.
На высоте сотни футов он стабилизировался, развернулся на восток и на бреющем полете весело понесся назад в город. Дайон вдруг понял, что начал думать о Лондоне как о доме, и удивился этому.
И тут он вспомнил о Сильфиде. Он хотел ее. Не для любви, не для секса — не ради чего бы то ни было.
За исключением ребенка.
13Правительство пало, но пурпурный парламент распущен не был. Виктория, в знак солидарности со своими министрами прошлыми и настоящими, стала носить серебряную маску. Семнадцать жиганов, одиннадцать сквайров, пять доминант и три инфры признались в том, что бросили красящую бомбу. А потом жизнь пошла так, как шла раньше.
Дайону приходила в голову мысль сознаться тоже. Но вероятность того, что его признание может быть воспринято всерьез, пугала не на шутку. Это, несомненно, повлекло бы анализ второй степени, что положило бы конец не только его нерегулярным попыткам писать стихи, но и тем важным открытиям, которые он делал относительно человеческой природы — в основном своей собственной.
Оставив Леандера — что, как он думал, было к лучшему — на забрызганном колбасой холме в Оксфордшире, Дайон вернулся в Лондон со всей возможной быстротой, которую только позволял реактивный ранец. Он был почти раздосадован, обнаружив, что его отсутствие даже не было замечено. Сильфида лежала точно в той же позе, в которой он ее оставил.
Она зевала, когда он включил телевизор, чтобы узнать окончательный итог утреннего происшествия в матери парламентов[47].
Она зевала, когда он рассказал ей о неожиданной эпидемии покраснения политиков.
Она зевала, когда он занялся с нею любовью.
И она продолжала зевать, когда он с отсутствующим видом снова растер ее тем, что осталось от выдохшегося и теперь уже теплого шампанского.
А ведь она даже не скучала по нему. Все произошло в точности так, как и должно было произойти, с некоторым удовлетворением говорил он себе. Она всего лишь сосуд, многократно оплодотворяемый сосуд будущего. И почему, Стоупс побери, сосуд будущего должен интересоваться вопросами, которые напрямую не связаны со спариванием, зачатием и рождением?
В том, что она забеременела, не было никакого сомнения, если только время было подходящим для зачатия. Когда впоследствии стало ясно, что так оно и получилось, Дайон не удивился ничуть. Он на самом деле был убежден, что помнит момент зачатия, когда во время их второй близости батальоны сперматозоидов, подобно микроминиатюрным, идущим на нерест лососям, слепо ударили в глубокий темный омут ее нетерпеливо ждущей утробы. На лице Сильфиды застыло такое выражение, будто она — не просто инфра, но женщина из глубины тысячелетий — разделяла с Дайоном безмерно-ошеломляющее молчаливое знание момента зачатия…
И вот теперь, все еще держа руку на груди Сильфиды, Дайон мысленно вернулся к Джуно. Он был изумлен, обнаружив, что может думать о ней с безмерным обожанием. Джуно считала, что она одна хочет ребенка. Но на самом деле она просто первой осознала, что Дайон сам желает того же. Может быть, Джуно и доминанта, но ее женская интуиция не ушла в песок под действием инъекций жизни. Она все понимала. Да, она понимала.
Подгоняемый ненавистью пополам с любовью, Дайон встал с кровати, вызвал скоростной лифт и поднялся на двести четырнадцатый этаж, чтобы увидеть Джуно. Был конец дня, но ее не оказалось дома. Возможно, несмотря на отпуск, Джуно мобилизовали, чтобы она принимала участие в поисках подозреваемых в утреннем политическом теракте.
Он ждал ее и, ожидая, заснул. Когда Джуно наконец вернулась, холодная ноябрьская ночь окружала Лондон-Семь морозной тишиной.
— Как прошла церемония оплодотворения? — спросила она холодно.
Он криво усмехнулся:
— Прекрасно, мадам. Девица беременна, но все это было в другой стране.
— Так скоро? И откуда ты знаешь?
— Успех определяется не затраченным временем, а приложенными усилиями, — мягко объяснил Дайон. — Я знаю, потому что знаю. Кроме того, яйцеклетка поет, когда ее оплодотворяют, и я слышал звуки этой музыки.
Джуно засмеялась и взъерошила ему волосы:
— Что за отвратительный маленький трубадур. Так ты любил ее в тот момент?
— Она взывает к моему чувству абсурда. А чем занималась ты?
— Охотилась на того, кто подложил мины. Безуспешно. А что делал ты, за исключением того, что оплодотворял Сильфиду?
— Красил политиков в пурпур.
Джуно сурово посмотрела на него:
— Такого рода шуточки доведут тебя до анализа первой степени, усохший Наполеон.
Затем она как бы между прочим добавила:
— Ты можешь, конечно, отчитаться за каждый свой шаг?
— Нет. Единственная, кто могла бы свидетельствовать в мою пользу, была без сознания. К тому же она беременна.
— Все эти намеки раздражают меня, малыш. Ты в настроении заняться любовью или уже достиг насыщения?
Как ни странно, он был в настроении. Он был в настроении заняться с ней любовью, хотя бы из одного только чувства благодарности. Она подарила ему Сильфиду, и она же дала ему возможность самопознания, которое иначе он бы никогда не получил.
Но здесь было и нечто большее, чем просто чувство благодарности. И когда Дайон начал ласкать это сильное тело, которое, казалось, каждой своей порой источает мощь и гордость, он понял, что это даже больше, чем любовь. Дайон в любой момент мог преодолеть ее гордость, потому что уже знал, как подвести Джуно к самому краю подчинения, где мощь и гордость не значили ничего и где это стройное красивое тело становилось всего лишь горой безумной чувственной плоти, кипящей от желания.
Они занимались любовью спокойно, со знанием дела, используя всю длинную осеннюю ночь, чтобы насладиться друг другом. Глядя в затуманенные глаза Джуно, Дайон отстраненно подумал, что любовь — обоюдоострое оружие. Он понял также, может быть впервые, что, хотя в Джуно и воплощалось все то, что он отвергал, она была ему, по меньшей мере, другом. Дайон хотел позволить этой мысли укрепиться у себя в сознании, чтобы потом к ней больше не возвращаться. И еще он был неподдельно изумлен, что дружба смогла породить такую страсть.